Гражданский иск в уголовном деле: очевидное и невероятное - анонс выступления Гулого М.М. на конференции "Технологии права 2025"

Империя. Диктатура. Царство. РесПублика. Деспотия.
Реституция. Виндикация. Конфискация. Сервитут. Узуфрукт.
Статус кво. Модус вивенди. Модус операнди.
Аб ово. Ад хок. Априори. Казус белли. Де леге лата.
Де юре. Де факто. Амикус курае.
Аффидевит. Эстоппель. Лонгус пенис — базис вита.
Дура лекс, сед лекс. Аве, Цезарь, моритури тэ салютант.
Цивилистика. Пенис фронтали — моменто летали. Криминалистика.
Лингва латина нон пенис канина ЭСТ!!!
Летом далёкого 1997 года, когда я ещё был зелёным курсантом, попался было на «цыганский гипноз»; но произнесённое громким и уверенным («командирским») голосом вышеприведённое проклятье спасло моё месячное денежное довольствие.
Так я удостоверился, что знание — сила, и что древние знания имеют непосредственную связь с моей современностью.
Как много в нашей правовой системе наследия того, что в истории государства и права называется древнеримским правом. Исходя из всеобщей истории человечества, сформулированные тогда правила взаимодействия в обществе до сих пор оказывают (непосредственное) влияние на нас. Например, вот прямо сейчас ведётся разработка систем ИИ («искусственного интеллекта»), предназначенного для управления автономными транспортными средствами. И сразу же возник вопрос — а как распределять/возлагать ответственность за вред, причинённый автомобилем/роботом, которым управлял ИИ?
Ответ был найден в древнеримском праве — вред, причинённый «говорящим орудием», возмещается хозяином такого орудия.
Практически вся нынешняя правовая система, в которой мы существуем, имеет истоки именно в континентальном (по сути, древнеримском) праве.
И я предлагаю взглянуть (в целом) на конкретно наше нынешнее право (в его историческом аспекте) через призму обращения к Институциям Гая, Дигестам Юстиниана и вообще Законам 12 таблиц, в применении к тем территориям, где мы сейчас обитаем.
Считается, что славянские/словенские племена изначально сформировались в Центральной Европе, а дальше, под внешним давлением, переселялись на восток (и кто бы мог предположить, что словенское местечко Медвежья Запруда (Берлин) в будущем станет центром огосударствливания германских племен, которые в итоге стали главными гонителями сла(о)вян. И кто бы мог предположить, что такой вектор давления повлечёт распространение славян в итоге аж на Дальний Восток («до самого дальнего моря»)… и даже заставит шагнуть за это море (аж до Форта Росс)?
Вот поэтому интересно проследить происхождение правовых терминов именно в славянской традиции.
Используя метод подсечно-корневого земледелия, славянские племена постепенно продвигались из центра Европы на восток.
На то время практически вся территория нынешней Европы была покрыта лесами (по сути — тайгой), отчего наиболее распространённые славянские племена и носили имя древлян («живущих среди деревьев»). Для возделывания близлежащих земель производилась вырубка соответствующей делянки в лесу, сжигание порубочных остатков, возделывание нивы на просечных участках, а после того, как исчерпывались «урожайные» возможности такого способа хозяйствования «деревня» (то есть место жительства общины древлян/лесорубов) переезжала на новое место, к новому участку хозяйствования (вырубки). Исходя из известных сейчас сведений, в среднем обычная деревня меняла своё местонахождение («переезжала») примерно один раз в 20-30 лет (то есть, по сути, в пределах жизни одного биологического поколения).
С течением времени развивались технологии хозяйствования, и когда-то подсечно-корневое земледелие было заменено оборотным (сначала двух-, а потом и трёх-польным) земледелием. То есть экстенсивный путь развития был заменен интенсивным. Следствием этого прогресса было появление сёл (то есть таких мест жительства, где осели жить (стали жить постоянно, без переездов) люди).
Сёла, как места жительства людей, были более прогрессивными (по сравнению с деревнями), более успешными, более богатыми. В недавней практике государственного строительства (буквально лет так сто пятьдесят назад) был чёткий признак, позволяющий различить село от деревни — село было настолько основательно и богато, что могло позволить себе построить собственную церковь. А деревня на такое была неспособна. Население деревни автоматически становилось приходом церкви в селе. Именно отсюда растут корни до сих пор известного презрительного выражения: «Эх ты, дерЁвня!!!!».
Укоренившееся поселение (СЕЛО; то есть место, где осели жить люди) постепенно росло, богатело, и принимало меры по своей защите — от всех врагов, как внешних, так и внутренних. Очевидно, что врагами были (считались) все те, кто мешали нормальной (обычной, то есть установленной обычаями) жизни села.
Для того, чтобы отделить своих от чужих, вокруг достаточно зажиточного села строилась оборонительная система, как правило, в виде рва (канавы), вала (из земли, вынутой из рва) и бревенчатого частокола поверх рва. Очень богатое село не ограничивалось частоколом, а строило целые засыпные стены, со въездными воротами и оборонительными башнями.
Богатое село, сумевшее построить ограду, защищающую его от внешних врагов, становится городом (то есть безопасным местом, имеющим ограду).
В итоге в городе (то есть внутри ограды) живут такие односельчане, которые есть горожане, то есть, иными словами, население города, которое выработало (то есть приняло) правила общественного проживания/поведения («социалистического общежития») в населённом пункте (городе). А вне города живут ино-городние; проще говоря — чужие.
За оградой города (огороженного села), для простоты обустройства, делались привязи для скота (как правило, тяглового, или верхового). Такие привязи по контуру повторяли внешний обвод защитной ограды населённого пункта; называли такие привязи «коноводью» или «коновязью», или, просторечно, «кон»/«коном».
Естественно, что с течением времени правила сосуществования, выработанные в городах, постепенно проникали (распространяли своё действие) и на другие (мелкие) (по)селения.
В курсе Истории государства и права Российского вот такие правила совместного проживания в городах, сёлах и деревнях получили обобщённое название Русской Правды. То есть внутри ограды (в городе) жили люди по Правде.
И самым суровым наказанием для жителя города (села/деревни) было его изгнание за пределы населённого пункта.
То есть того, кто не смог жить по Правде, изгоняли За Кон (то есть в то место, где жили чужаки/иногородние, и где не было Правды). И дальше живи, как сможешь — Правды своих для тебя нет, а ЗаКоном чужаки с тобой могут сделать всё, что им заблагорассудится — по их правилам.
Изгнанный из Правды (из города) буквально переступал за кон (то есть «преступал Закон»), то есть становился «преступником».
С расширением взаимодействия людей разных городов, расширились и понятия правил поведения — тот, кто живёт по Правде — тот прав; тот, кто живёт не по Правде, тот неправ; неправый должен преступить за кон; неправый — это преступник. А Закон — это, стало быть, правила поведения с теми другими (чужаками), которые не живут по нашей Правде. Тот, кто не живёт по Правде, то преступает закон, то есть становится преступником. И теперь чужаки/иногородние, те самые, которые живут не по Правде, вправе сделать с преступником всё, что им заблагорассудится; всё, чего он заслуживает; всё, что он заслужил по закону....
С течением времени, за счёт взаимодействия городов и взаимопроникновения правил и обычаев поведения, разные паттерны живших по Правде систематизировались, оптимизировались и усреднялись (то есть приводились к некоему общему пониманию). Одновременно формулировались признаки такого поведения, которые не были желательны в любом месте, населённом людьми, формулировались общие признаки тех, кто не был желателен; тех, кто не мог жить по Правде; кто жил так, что в итоге должен был преступить за Кон… так родилось общее понятие преступника, как нарушителя законов.
В настоящее время российская правовая система представляет собой сложный конгломерат норм древнеримского (и наследовавшему ему континентальному) права, Русской Правды, с великой примесью элементов англосаксонской правовой системы, густопомазанный всё ещё существующим местным обычным правом, помноженному на современное внеправовое правоприменение.
В итоге существуют (и даже имеют развитие) такие институты, как гражданский иск в уголовном деле. В реальности этот институт подобен морской свинке — которая и не свинка, и никакого отношения к морю не имеет. Но при этом существует в действительности. Невероятно, но факт!
В областях пересечения современных уголовного и гражданского судопроизводств существует такое явление, как гражданский иск в уголовном деле.
Который на самом деле и не иск (поскольку в нём может не быть исковых требований), и не гражданский (поскольку предъявляется (как считается) только по предмету уголовного иска, (ой, обвинения)), и который не подчиняется правилам гражданского судопроизводства, но при этом не имеет собственных правил (например, слабо ли цивилистам придумать предмет для ВСТРЕЧНОГО иска по гражданскому иску в уголовном деле); наконец, по этой категории исков применяются специфические меры обеспечения и явно незаконные (то есть не предусмотренные Законом в виде ст. 12 ГК РФ) способы защиты прав.
Об этих, и многих других невероятных, но очевидных сущностях такой ФАТА-МОРГАНЫ, как гражданский иск в уголовном процессе, я планирую завязать дискуссию на Конференции Праворуба «Технологии права-2025».
Пока ещё есть время — прошу всех желающих задавать вопросы на тему моего выступления; к самым интересным вопросам я постараюсь дать ответы.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
Уважаемый Михаил Михайлович, тема, как всегда интересная и нужная, и у меня нет сомнений в том, что Вы расскажете о всех проблемах, с которыми могут столкнуться коллеги, при заявленном гражданском иске в уголовном деле.
До встречи на конференции! (handshake)
Уважаемый Михаил Михайлович, тема нужная, интересная и в уголовном праве, и в цивилистике.
Что касается встречного гражданского иска в уголовном деле (обвиняемого либо подсудимого) к потерпевшему, то возможно подумать «Почему бы и да? Учитывая, что одним из смягчающих обстоятельств уголовно наказуемого деяния является поведение самого потерпевшего».
Уважаемый Михаил Михайлович, важная и очень тонкая тема! Буду ждать Вашего выступления, уверен будет очень интересное самое главное полезно!
Уважаемый Михаил Михайлович, у меня для Вас есть две новости: одна хорошая и одна плохая.
↓ Читать полностью ↓
Начну с хорошей -
Я подозревал, что Вы в конечном итоге доберётесь до этимологии, так как понимать смысл слов важно. Когда сам добрался до этого, то многое стало понятно. Например, слово «правда» не просто фундаментальное понятие языка и культуры, оно явно было таковым в древности, до того как индоевропейцы стали всё более и более разделяться. Так «правда» явно связано со словом «правый». Это сейчас «правый ботинок» и «правый человек» немного разное, но в древности было общее понимание, так в английском «right». Аналогично в немецком - Rechts, во французском - droite и т.п. В общем «правда» и «правый» почти одно и то же.
Вообще в основе лежит очень-очень-очень древняя лексика уровня «деревня-природа-община». Это хорошо видно при сопоставлении с санскритом. Например, на санскрите «брат» — это «bhrata», а на латыни это «frater» (не трудно заметить, что тут «б» перешло в «ф»), отсюда и латинское «фратрия» (братчина, у славян тоже были такие мужские объединения). Так вот, на санскрите «правый» — это «dakshinah» и «право» передаётся тем же словом. То есть, соответствует славянскому «одесно» — по правую сторону («десница» — это правая рука). Но «dakshinah» вообще-то означает «верно». Отсюда и смысл «правда» — это верное, правильное, положенное.
И для справки «русская правда» почти полностью соответствует так называемым «салическим кодексам». А где не соответствует — там очень интересно, так как вскрываются те устои германской общины, которые для славян были просто неприемлемыми и даже противными.
В изначальном понимании «право» совершенно не соответствует понятиям «юриспруденция» и «юстиция». То есть латинское «ius» переводится как «верно», но если разобраться, то в основе что-то вроде «установление» или «устав», что явно от слова «уста». «Юриспруденция» же явно идёт от понятия «сила» или «яр» (привожу славянские сопоставления, хотя на самом деле имеются ввиду древние корни). Дело в том, что сами древние римляне писали, что любое управление идёт или от богов (sacra), или от властей (iure). Это ближе к санскритическим понятиям «дхарма» и «карма», первое поддерживает («дхри» — держи), второе дано изначально и непреодолимо (сродни нашему «кара»). Дхарме можно и нужно соответствовать, а вот карма — это "пипец уже настал, а ты и не заметил..."
А теперь плохая новость -
Этимология наука сложная. Порой слова до такой степени изменились, что без специальных познаний невозможно рассуждать об их происхождении.
Есть у меня знакомый, который считает, что все языки произошли от русского, так как в прошлом русский и есть санскрит (что неверно по определению, так как «санскрит» в разговорной обыденно вербальной форме никогда не существовал — но это другая история). Так вот, этот знакомый любое слово любого языка выводит из русского! Ужасть! Например, слово «иудей» он выводит из «уда — как мужской половой орган», «дей — делал» и «и — оно и есть и". Получается „и (он) с удой своей (кое-что) сделал“ — а именно, обрезал её.
Чтобы не попадать в подобные странные толкования желательно точно знать как изменяются слова и почему. Скажем, есть слово „иранцы“, на самом деле оно звучит как „айран“, то есть „арии“ или „арийцы“. А у нас живёт народ, который называет себя „алан“, „аланы“, они же осетины. Это, оказывается, одно и то же, так как есть языковой закон по которому в определённых условиях звук „р“ переходит в звук „л“. Вот и выходит „айран — айлан — алан“. А мы в древности этих „осетин“ называли „осы“ или „ясы“. У князя Всеволода Большое Гнездо жена была ясыня — Мария Шварновна, она же святая Мария Ясыня.
Полагаю, что Вы попали в плен вот такой вот народно-самостийной этимологии, так как слово „закон“ никак не связано с „изгнанием За Кон“ и тем более не связано с „конём“ и „коновязью“.
Начну с „коня“, лошадь на санскрите „ашва“ (нетрудно заметить совпадение лошадь-ашва, но к нам это слово пришло от тюрок, которые сами заимствовали от ариев). Есть ещё „эквус“ от которого происходят многие слова в европейских языках как обозначение коня, в том числе и „кобыла — кобалья — ковалер“. Но вот само слово „конь“ уникально и восходит к более древнему „комонь“ или „комоне“. Никто не знает откуда это взялось у славян. На мой взгляд тут надо поискать в направлении того кто такие „киммерийцы“ и почему они так назывались. Во всяком случае последние генетические изыскания говорят о том, что именно из древней киммерии вышли все современные домашние лошади. В общем „комонь“ никакого отношения к слову „кон“ не имеет.
«Кон» вообще очень древнее слово, оно встречается, например, во французском языке (даже шутят, что непонятно почему «кон» мужского рода, а «бита» женского, хотя обозначают совершенно иную половую принадлежность во французском языке). Оно есть в родственном латышском языке как «cinâtiês — подниматься», есть в латыни как «rесēns — свежий, бодрый, недавний», есть в ирландском как «cinim — я возникаю». В общем «кон» — это изначально, начало, то, что повелось. Потому и «конец» — это то чем закончилось ("-ец" это из церковнослаянского, в обиходе такие слова оканчиваются на "-ик", типа «старец» — «старик», для «кона» будет что-то типа «конечник»). Чтобы понять «закон» нужно посмотреть на другие существительные типа «забор», «забег». Особенно близко по значению слово «завет».
P.S. И о «деревне», а также «древлянах». Вот в украинском «деревня» — это «село». Ну нет у них «деревни». Южнорусские области не различают эти наименования. Только на севере начинают различать потому, что там «деревня» изначально было место, очищенное от леса для пашни (она же «лида» или «ляда» — совсем забытые сейчас слова). А вот «древляне» и «поляне» — тут другая история, она связана с переселением готов и возникновением черняховской культуры. Готы первоначально не создали какого-либо централизованного государства в Южной Руси, каждое племя было самодостаточным. Готское племя, которое поселилось в Бессарабии, было известно как «тервинги» (лесные люди, ср. русские «древляне») или вестготы. Тайфалы остались далее на запад, в Малой Валлахии. «Гревтунги» (степные люди, ср. русские «поляне»), также известные как остготы, были сильнейшим племенем среди восточных готов. Дело в том, что мы сейчас не понимаем этической ситуации в древности. Там была смесь племён. Некоторые жили давно рядом и говорили на близких языках, хотя чем дальше отходишь от первоначального племени тем больше неясностей в языке. А другие племена переселялись далеко и их язык долгое время «сближался» с местными, либо начинал преобладать над ними. Но в те времена не было проблем с тем, чтобы говорить на двух или трёх языках, так как лексика была ещё не так богата. Например в летописи о племени тиверцев говорили, что они известные толмачи, то есть переводчики, знали несколько языков. А те же шведы себя называют «свеи», то есть, «свои», у них было много диалектов, но взаимопонимаемых, как и сейчас в Дании, Швеции и Норвегии. Да и наши поморы свободно говорили на «свейских» языках.
Уважаемый Михаил Михайлович, ну нельзя же так!
У меня же чуть приступ не случился. Думаю: «Неужели и в сознание коллег проникла эта гадость с псевдоисторией!?» — вот и вступился за «историческую правду».
Ай-яй-яй-яй… И меня провели, старика.
Уважаемый Владислав Александрович, сдается мне, приедете Вы на конференцию весной…
Уважаемый Михаил Михайлович, да интересно изложенное, во первых-для понимания происхождения изложенных терминов, применяемых в повседневной работе, а во-вторых полагаю интересным будет гражданский иск в уголовным процессе. Ждем!
Уважаемый Михаил Михайлович,
Ваша «научная абракадабра», действительно привлекла внимание! Как минимум, моё!
С удовольствием, послушаю Ваше выступление!
Уважаемый Михаил Михайлович, сказать, что заинтриговали — ничего не сказать! Будьте добры, для меня контрамарочку в первом ряду зарезервируйте!
Уважаемый Михаил Михайлович, если у Вас такой интересный анонс, то что же будет на конференции?:)
Обязательно приобрету доступ к Вашему выступлению в эксклюзивных материалах.
Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).
● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.
● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.
Защита по сложным уголовным экономическим делам.
Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!
Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.
Являюсь также профессиональным медиатором.

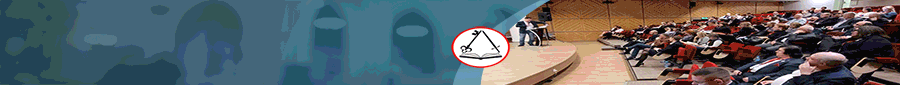
Уважаемый Михаил Михайлович, очень интересная тема была Вами выбрана, было бы очень полезно послушать на предстоящей конференции! (Y)